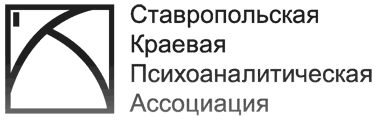ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Моздор Н.В., кандидат психол.н,
кандидат IPA, член СКПА
Что внутри – во внешнем сыщещь
Что вовне – внутри отыщещь
Гёте
Хочу выразить слова благодарности организаторам этой юбилейной конференции. Меня очень заинтересовала тема, и не только потому, что затрагивает вопросы личных отношений с психоанализом, но и особенно потому, что на пути становления специалиста, развития личности именно процесс идентификации как нельзя объёмнее отражает путь «внутри психоанализа. психоанализ внутри», поэтому он и стал предметом моего интереса для данной конференции.
В «Словаре психоанализа» Жан Лапланш и Жан-Бертран Понталис (Laplanche & Pontalis, 1973) писали, что в «работах Фрейда понятие идентификации постепенно обретает центральную значимость, что превращает ее не просто в один из психических механизмов среди прочих, но в ту самую операцию, посредством которой выстроена человеческая субъективность». [3]
В самом деле, не часто встретишь психоаналитическую статью, в которой не упоминается понятие «идентификация». И в повседневной работе анализа психоаналитическая задача заключается отчасти в том, чтобы разобраться, «кто есть кто». Мы часто спрашиваем себя: кого я репрезентирую для пациента в переносе? Мы понимаем, что пациент идентифицирует аналитика как фигуру в своем внутреннем мире и реагирует на аналитика так, будто он является этой фигурой. Также мы можем спрашивать себя, с кем идентифицирован пациент, когда он нам что-то рассказывает.
А. Грин в работе «Интрапсихическое и интерсубъективное в психоанализе» отметил, что «в самых глубоких пластах внутреннего, которые наименее подвержены влияниям внешней реальности, существует влечение. На противоположной границе - наиболее далёкой от влечения – существует Другой во всём многообразии его форм» (Green, 2000). Если подумать над этой идеей, то можно сказать, что психическая реальность обнаруживает себя в Другом, который ассоциируется с чем-то внешним, лежащим по ту сторону субъекта. И чем пристальнее и глубже мы всматриваемся в Другого, тем лучше мы видим, что внешняя граница нашей психической реальности образуется из того же материала, что и внутренняя. В Другом, во внешней реальности, обнаруживается сила влечения, представленная для нас как желания Другого. Таким образом, наша психическая реальность образуется благодаря сложной диалектике отношений интрапсихического и интерсубъективного. Инстинктивные влечения выполняют в этой диалектике как динамическую, так и структурную функцию. С одной стороны, они становятся движущей силой, вовлекающей субъекта в отношения и выводящей его из нарциссического состояния, а с другой – формируют границы субъективности – как изнутри (со стороны субъекта), так и снаружи (со стороны объекта, или Другого)
Ребёнок без процесса идентификации не может строить психический мир.
Во взглядах Фрейда видна эволюция его понимания, первоначально он рассматривал идентификацию, как важный механизм защиты, способствующий формированию эго. Он увидел, что идентификация возникает, когда индивид принимает черты другого человека, чтобы защитить себя от тревоги потери связи с важным объектом или конфликта желаний и чувств к нему. Это позволяет установить эмоциональную связь и пережить трудные моменты, унося с собой частицу силы или уверенности другого человека. Или это может не получиться, ввергая человека в круговорот проективной идентификации. Похоже в моем примере мы наблюдаем именно работу проективной идентификации. Есть ли выход, мы подумаем позже.
А пока я хочу обратиться к одной из работ Эдны О’Шонесси.
Несколько слов о ней самой: Эдна О’Шонесси (26 сентября 1924 — 25 января 2022) была британским психоаналитиком, родившейся в Южной Африке. О’Шонесси получила образование в области философии, которую она преподавала в Оксфорде, прежде чем пройти переподготовку в качестве детского психотерапевта в клинике Тависток. Впоследствии она стала аналитиком и обучающим аналитиком в Британском психоаналитическом обществе. Работа О’Шонесси, входящего в влиятельную группу пост-кляйнианских психоаналитиков, работавших и писавших в 1970-х и 1980-х годах, основана на теориях Мелани Кляйн и её последователей, таких как У. Р. Бион. Важно помнить об этой психоаналитической идентификации самой Эдны, при осмыслении её клинического примера о мальчике Леоне, который она приводить в своей известной статье «Невидимый Эдипов комплекс» и обращается к вопросам идентификации.
«Я начну с подробного рассказа о случае Леона, который в возрасте одиннадцати лет приближается к пубертату, однако его психическая жизнь все еще в значительной мере содержит защиты от его нарушенных отношений со своими первичными объектами и от травматической ранней эдипальной констелляции. Проблема, с которой он пришел, - паника по поводу любого ожидаемого нового события. Когда он начинал свой анализ, ему как раз предстоял переход в среднюю школу и его родители считали, что ему никак с этим не справиться. В остальном, сказали они мне, хотя отец, похоже, был не так в этом убежден, нет «никаких проблем». Он «просто обычный мальчик». Леон был их первым ребенком, и вскоре после него родился второй - еще один мальчик, зачатый, когда Леону было четыре месяца. Младший брат Леона был выше его на голову, буйный и активный, Леон же много времени проводил в своей комнате с книжкой, хотя и выходил играть, если какой-нибудь приятель брал на себя инициативу. Его мать с трудом могла заставить себя говорить о раннем детстве Леона, которое, как она сказала, было «ужасно». Он часами плакал; она не могла выносить ни его плача, ни кормления. «Не то, чего я ожидала», - все время повторяла она. Это ограниченное и, в особенности со стороны матери, лишенное понимания представление о Леоне - невыносимого в младенчестве, а теперь с тревогами, которые никем не были признаны, с родителями, которые не ждут, что он стремится или может справиться с жизнью, - точно отражала часть материала, развернувшегося в анализе.
На первой сессии Леон расположился напротив, недалеко от меня, он уселся каким-то ввинчивающимся движением на маленькой скамеечке между двумя подушками. За исключением двух сессий, в течение первых 18 месяцев анализа он покидал свою скамеечку, только чтобы выйти в туалет. Он наблюдал за мной сквозь две разные пары очков - одни такие, как у его матери, а другие, как у его отца, - проверяя комнату и меня на предмет малейшего движения или изменений. Любое изменение вызывало у него острую тревогу. Он казался моложе своих лет, подавленный, рыхлый и пухлый мальчик, демонстрирующий, что у него почти нет надежды на понимание со стороны других людей. Его внешность могла поразительно меняться. Внезапно он мог выглядеть некоей версией или своего отца, или своей матери. Он также «становился» маленьким больным младенцем, а по временам выглядел странно увеличенным в размерах. Эти изменения внешности были вызваны, я думаю, его проекцией в свои объекты и почти полным отождествлением с ними на раннем чувственном уровне. Фигуры, которые он впускал - или которые, как он чувствовал, вторгались силой - во внутренний мир, он переживал таким же физическим и конкретным образом: они завладевали им, и он персонифицировал их. Леон переживал анализ как нарушение спокойствия, которому он и противился и который он принимал, иногда с благодарностью. Он сказал однажды: «Я вас не хочу, но вы мне нужны».
Вначале, умостившись между своими подушками и быстро проверив комнату на предмет изменений, он проводил все сессии, молча пристально глядя в пол или на дверь напротив себя. Я выяснила, что он видит на полу точки, что они его «туда втягивают» и у него от них «головокружение», но что если отвести глаза, то можно выбраться. На двери, как он сказал, он «видит узоры».
Он очертил то, что он называл «узором»: отчетливый пенис с мошонкой. Он описал, как дверь придвигается все ближе и ближе, но если выйти из комнаты и вернуться обратно, то дверь опять отодвинется на свое обычное место.
Он сообщал об этих событиях деловитым тоном в ответ на вопросы на протяжении многих сессий, причем тревога, стоящая за этими почти галлюцинациями, и то, как они приковывают его внимание, подвергались полному отщеплению. Он, похоже, фрагментировал в точки и узоры два пугающих внутренних объекта и перемещал их из своей психики на пол и на дверь. Там он наблюдал за ними, уходя от контакта со мной или с игровой комнатой, стараясь не утратить контроль и оставаться свободным от тревоги и от эмоционального содержания. Ему никогда не удавалось оставаться психически опустошенным и отстраненным надолго. Мгновение - и в нем вспыхивали ужас, или внезапная ненависть ко мне, или острая подавленность, или внезапная нежность. Он быстро избавлялся от этих интенсивных противоречивых чувств, которые «дергали и крутили» его. У него не прекращался конфликт: уйти в себя или допустить контакт, - этот конфликт отражался в положении его ног, которые то пятились назад, под его скамеечку, то выдвигались вперед на меня, то убирались опять. Иногда он затыкал себе уши, но чаще слушал внимательно. После первых нескольких месяцев его колоссальная латентная тревога значительно уменьшилась, что принесло ему большое облегчение, и, к изумлению его родителей, он сумел перейти в среднюю школу без паники…»[2]
Хочу обратить ваше внимание на то, какое внимание О’Шонесси уделяет пониманию отыгрывания в сеттинге, за которым возникло изменение в работе с Леоном: « Проверяя комнату и зная установленный порядок своих сессий, Леон поддерживал общий фантазийный мир, свободный от изменений, от отдельности и от сепараций - перерыв между сессиями или на выходные для него не существовал. Этот порядок в первый раз был изменен, когда я отказалась работать в банковский выходной понедельник. На последнюю сессию предшествующей недели он не явился; во время его часа позвонил в панике его отец и сказал, что они договорились встретиться с женой и сыном у метро и затем привести Леона ко мне, но их там нет.
Во вторник Леон пришел, причем без очков. Сначала он очень боялся, что его накажут, выбросят из его дома на скамеечке или даже анализа вообще за то, что он пропустил сессию, и он с облегчением принял мою интерпретацию его острой тревоги. Затем он попытался восстановить меня в качестве близкой к нему подушки, храня молчание, почти не двигаясь, чтобы заставить меня напрягать внимание и быть рядом. После этого он сказал мне, что во время выходных уронил очки, и они разбились вдребезги. Затем он близоруко посмотрел на дверь, на которой, как он сказал, видны «волны», и на пол, на котором, как он сказал, есть «кусочки не такие приятные».
Я думаю, что Леон нашел изменение порядка невыносимым, не смог прийти, разбил вдребезги свое зрение и разбил вдребезги также те объекты, остатком которых были «волны» и «не такие приятные кусочки», но остатком столь малым, что невозможно было узнать, что же это он фрагментировал и изгнал.
Примерно через восемь месяцев анализа Леон стал способен лучше переносить контакт с содержанием своей психической жизни, и тогда природа того изменения, которого он боялся, прояснилась, по мере того как в удаленных по времени друг от друга сессиях вернулись фрагменты его ранней эдипальной ситуации. Сначала осуществилось его перемещение со скамеечки, и он впервые сел за стол. Он достал колоду карт, и мы сыграли один раз. Он втайне был страшно доволен, что передвинулся. На следующий день он снова сел за стол. Он достал другую колоду карт. Во время игры он сказал: «Эти карты кого-то другого. Они приятнее моих», - будто он утверждал некий факт, принятый и им, и мною. Он никогда больше не приносил карт, а потом еще десять месяцев ни разу не сдвигался со своей скамеечки. Этот болезненный эпизод дал мне возможность мельком заметить, какой травмой было и все еще является для него рождение брата и как он уверен, что семья считает его брата приятнее, чем он…
Эдипов комплекс Леона на первом месте не содержал сексуального желания в адрес матери и сексуального соперничества с отцом. Исходно у Леона была не родительская пара, а угрожающая троица: мать, беременная новым младенцем, и отец. Не было никакого соперничества; вместо этого, как он показал на сессиях, когда играл в карты, была капитуляция. Леон не соревновался ни со своим сиблингом, ни со своим отцом - он отступил. Наступление эдипальной ситуации было настолько невыносимо для него, что он изгнал сексуальность, свою собственную и своих родителей. Когда он начал анализ, его внутренние сексуальные объекты были отброшены на пол и на дверь, и он выглядел бесполым. На полу была не то вагина, не то рот, фрагментированный в виде мелких точек, который всасывал его в себя или вызывал головокружение, который он определял как «не такой приятный». На двери был более целостный отцовский пенис, поразительно инвазивный, превращенный в узор, в паттерн, чем он и был для Леона - его основная идентификация была с отцом.
На первом месте для Леона была проблема отдельности. Беременность матери, когда ему было 4 месяца, совпала с неправильным, с точки зрения его развития, временем, когда ему все еще нужны были исключительные отношения для принятия проекций после катастрофического начала его жизни. Он все еще был на параноидно-шизоидной позиции, на грани депрессивной позиции, старые отношения с частичными объектами накладывались на только что появившиеся отношения с целостными объектами. Ощущение «уходящего» аналитика прошло по нему волнами шока. Он почувствовал себя выброшенным …Вся его нежность в отношениях, которых он так желал со своей матерью, исчезла и сменилась жестокой ненавистью. Беременную, Леон ее не любил, и когда он ощущал ее страдания, то чувствовал, что горе, большее, чем он способен вынести, делает его сердитым и тревожным. Его Эго не справлялось: его дергала и крутила череда неуправляемых эмоций. Когда недалеко от начала его анализа была отменена одна сессия, ему даже пришлось разбить свои очки и не явиться. Теперь, когда его Эго стало несколько крепче, он смог позволить отдельным элементам своего эдипова комплекса вернуться, увидеть мать, нового младенца и отца - все то, что влияло на его собственную идентичность. Вместо бесполости, вместо того чтобы смотреть на мир через очки матери или отца из-за того, что он находился в состоянии проективной идентификации то с одним, то с другим из них, в нём впервые появилось настоящее мальчишество» [2]
О’Шонесси отмечает, «что крайне важной чертой этой констелляции является то, что проективная идентификация, которая нацелена на то, чтобы разделить и атаковать сексуальных родителей, раскалывает на части некую комбинацию. Поскольку эмоциональный уровень ранний, объекты, которые раскалываются, в любом случае уже искажены невозвращенными проекциями. Но в результате того, что они расколоты, и в результате дальнейших проекций уничтожаются их гетеросексуальные прокреативные свойства, и пациент взамен получает патологические сексуальные объекты - искаженные, неполные и поврежденные. Часто отец рассматривается не как отец или муж, а как садистическая фаллическая мужская фигура, а мать становится слабой открытой мазахистической женской»[2].
Клинический пример Эдны О’Шонесси хорошо показывает, что психоаналитические подходы часто направлены на осознание идентификаций, которые препятствуют развитию.
Следует отметить, что одним из важных компонентов заботы родителей является поддержание у ребенка ощущения безопасности в том числе через создание интимности для собственной сексуальной жизни. Таким образом, хорошие родители должны сделать свою сексуальную жизнь секретной. Психоаналитики, в частности, Бриттон, отмечают, что любой секрет выполняет функцию сообщения. Он нужен для того, чтобы оставлять следы. В работе «Утраченное звено: сексуальность родителей в эдиповом комплексе» Р. Бриттон в 1985 г. написал, что «завершение эдипова треугольника благодаря признанию наличия связующего звена, объединяющего родителей, создаёт некую ограничительную линию для внутреннего мира ребёнка»[1]. В случае, если ребёнок оказывается невольно вовлеченным в сексуальную жизнь своих родителей, он не может понять происходящего, а наличие связующего звена между родителями переживается им как нечто потенциально опасное для его связи с каждым из них. Это, в свою очередь, ведёт к формированию защитных функций, которые Бриттон назвал иллюзиями эдипова комплекса. Он также отметил, что «при менее тяжёлых расстройствах удаётся избежать окончательного отказа от эдиповых объектов. Отношения родителей уже были отмечены и запомнились, а теперь они отрицаются, и против них организуется защита». Исследования процесса преобразования отрицания в психоанализе связано с проблемой расщепления. Клинические примеры, в том числе и О’Шонесси, хорошо показывают, что интеграция психических процессов возможна после того, как будет пройден пик дезинтеграции и защиты будут проявлены отчётливо и представлены как фантазии. Андре Грин как будто обсуждает с ней путь развития Леона. Он считает, что «объектные отношения, которые демонстрирует пациент, в психотическом ядре без видимого психоза являются не диадными, а триадными, т.е. в эдипальной структуре присутствует как мать, так и отец. Однако глубинное различие между этими объектами состоит не в различии полов или функций. С одной стороны, хороший объект недоступен, как если бы он был вне пределов досягаемости или же никогда не присутствует достаточно долго. С другой стороны, плохой объект всё время вторгается и никогда не исчезает, разве что только на очень короткое время»[5].
Для того, чтобы было возможным использовать процесс идентификации для изменений, интегрирующих личность, важно уметь использовать механизм интроекции. Интроекция является необходимым для идентификации шагом, однако она отличается от неё, именно тем, что идентификация производит изменение в Я. Процессы идентификации характеризуются динамичностью и изменчивостью, они также предоставляют Я точки определенности, которые позволяют ему продолжать чувствовать, что «Я есть Я» на протяжении процессов изменения в истории его жизни. Следовательно, «принцип постоянства» и «принцип изменения» необходимо поддерживать в состоянии союза. Вспомните, как в случае с Леоном, он сопротивлялся «принципу изменения». «Принцип изменения» указывает на различные идентификационные позиции, к которым может получить доступ Я. Характерной особенностью идентификационного процесса является то, что он никогда не приходит к решающему финалу — старые идентификации отступают, потому что другие занимают их место. Однако этот процесс должен предлагать символические опорные точки, чтобы его траектория не стала источником дезорганизующих Я тревог, которые вызовут разрывы или прерывания в этом постоянном процессе поиска. Леон демонстрировал сбой в работе символизации, разбивая объекты на фрагменты и таким образом удерживая с ними хоть какую то связь, не имея способности оценивать её влияния на собственную дезинтеграцию. В моём примере малышка предпринимает попытки к символизации чувств, и через образы акул, доносит их третьему объекту, терапевту.
Гении в искусстве широко использовали союз «принципа постоянства» и «принципа изменения», используя идентификацию с её символическим потенциалом. Здесь хочется привести в пример Моцарта, музыка которого сегодня звучит в мире каждые 15 минут. Его музыка выступает для слушателей символическим релевантном вытесненного когда то переживания.
В ряде статей психоаналитиков отмечается, что вытеснение является условием идентификации. «Когда нарциссизм и его коррелят, идентификация, размещаются на стороне того, что вытесняет, идентификация функционирует на службе структурирования субъекта. А установление Я как инстанции основывается на потере или контр-инвестировании объекта, что требует как объединяющего и нарциссизирующего вмешательства со стороны другого, матери, в которой берет начало весь идентификационный процесс, так и разделения психических систем, которое обеспечивается только установлением вытеснения. Траектория идентификаций также поддерживается и структурируется при помощи отцовской функции, которая выступает символическим полюсом, упорядочивает вторичные функции и опирается на сложное взаимодействие «реального отца» и «отцовской функции».[4]
Помимо связи процесса идентификации с такими процессами, как интроекция, вытеснение, психоаналитики отмечают, что существует тесная связь между сублимацией и процессами идентификации. Сублимации требует идеал, но именно Я осуществляет ее в зависимости от своей либидинальной истории.
Идентификация представляет собой основное средство, к которому прибегает либидинальная экономика, чтобы сохранить то, от чего заставляет отказываться принцип реальности. Либидинальный выбор заменяется инвестированием Я, такая замена позволяет Я стать замещающим объектом, который компенсирует потерю. В процессе идентификации часть Я идентифицируется с объектом, от которого пришлось отказаться.
Способы сублимации подразумевают процессы, связанные со способностью идентификации с символизирующим потенциалом другого. Отличным примером здесь является история в творчестве Бетховена. Широко известен факт, что к концу жизни Бетховен, продолжая писать музыку, уже потерял слух. По традиции своего времени ему полагался человек, который переписывал его ноты. У самого Бетховена музыка звучала только «внутри» его мира звуков, тогда как переписчик первым слышал её реальное звучание, и именно он уже брал всю ответственность за предоставление партитуры под авторством Бетховена. Именно эта история до сих пор порождает ряд домыслов об авторстве знаменитых симфоний.
В завершении исследования темы идентификации в психоанализе, хочу обратить ваше внимание на «матерей» и «отцов» психоанализа для моего процесса идентификации в профессии. Многих из них, присутствующие сегодня здесь участники юбилейной конференции Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации, имели счастье видеть и в Ставрополе. Огромная благодарность каждому из наших учителей, членов Международной психоаналитической ассоциации (IPA) за их вклад в наше профессиональное развитие.
А начался мой путь в 2004 г, когда состоялась моя первая встреча с группой французских психоаналитиков на конференции, носившей название «Легенды французского психоанализа». Так зародилась моя новая связь – с психоанализом. Тогда я попала «вовнутрь психоанализа», идеи которого представляли Андре Гринн, Джойс Макдугалл, Шасге-Смиржель, Рене Русийон и группа московских психоаналитиков, организаторов конференции. Это было только начало нового пути и процесса идентификации, с которой знакомы все психоаналитики, а именно, проявление по разному разных идентификаций в трансферентной связи. Отсюда обязательным компонентом психоаналитической подготовки является собственный психоаналитический тренинг. Он позволяет проникать в суть психоаналитического преобразования, через формирование психоаналитической идентичности. Позволяет понять и принять факт, что «несмотря на то, что мы получаем доступ к идентификациям пациента при помощи разных каналов (воспоминания, случайные обстоятельства мы наблюдаем как он сам с этим идентифицируется), основной путь — это повторение в переносе, восприятие контрпереноса и «слушание слушания». Именно процесс длинною в жизнь – идентификация – даёт нам шанс приобретать «новое», а перенос представляет собой и место повторения, но также и создания. Именно в этом месте возникает взаимодействие идентификаций-дезидентификаций, а также создание новых идентификаций.
Работа дезидентификации конструирует прошлое — как в ходе жизненного развития, так и в ходе аналитического процесса, она (работа дезидентификации) также создает возможность возникновения желания и построения будущего.
Надеюсь, что наши попытки построение психоанализа в Ставрополе, проявление «психоанализа внутри» каждого из нас, имеет своё будущее. Необязательно, что это будущее будет безоблачно, вокруг всё время каждый из нас сталкивается с вызовами современности: пандемиями, межгосударственные конфликты и т.п . Это несомненно отражается на наших идентификациях. Иногда есть соблазн идеализации, и психоанализа в том числе. Возможно подобную «ловушку» отметил в эссе «Психотерапевт, который меня ненавидел», опубликованном после смерти О’Шонесси доктор Майкл Бэкон. С его отзывом о работе с психоаналитиком, я встретилась на страничке в Википедии, изучая биографию О’Шонесси. Майкл Бэкон считал себя одним из ключевых пациентов О’Шонесси, мальчиком, которого она называла «Леон». В эссе утверждалось, что приверженность О’Шонесси теории Кляйн мешала ей полностью понять его или делать «здравые» наблюдения во время их совместной работы. Он объяснил, что опубликованные О’Шонесси статьи, основанные на анализе «Леона», такие как «Воображаемый эдипов комплекс» (1989), не соответствуют его воспоминаниям о лечении и вызвали опасения по поводу их положительного восприятия психоаналитиками. (2024г) Думаю, что этот неожиданно полученный отзыв «Леона» демонстрирует, насколько идентификация влияет на формирование Я, в глубинах которого так и сохранилась первичная идентификация, в его случае это всё таки с матерью, которая его ненавидела, потому что предпочла ему другого ребёнка.
Но подобные «неудачи» построения новых идентификаций, с которыми сталкивается каждый психоаналитик, в самом специалисте уже имеют внутри психические механизмы переработки, в том числе через идентификацию, со своими учителями, супервизорами.
На этом я всё таки остановлюсь в своём анализе такого понятия, как идентификация, которое на мой взгляд как ни что иное, лучше подходит под описание процессов преобразования внешнего во внутреннее, и проявления внутреннего во внешнем, - процесса длинною в жизнь.
Список литературы
1. Бриттон Р. Утрарченное звено: сексуальность родителей в эдиповом комплексе // Эдипов комплекс и эротические сны. М., 2002.
2. Бриттон Р., Фельдман М., О’Шонесси Э. Эдипов комплекс сегодня: Клинические аспекты// Под ред. Дж.Стайнера. Пер. с англ.. – М., Когито-Центр, 2012.
3. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. – М.: Высш.шк., 1996.
4. Тереса Ольмос Де Пас. Introducción a Los huéspedes del yo.
5. Green A., 2000