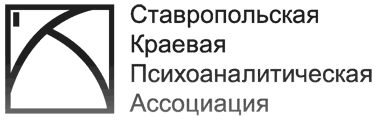Доклады и публикации
Материал 17-й психоаналитической конференции СКПА «Жадность»
ЖАДНОСТЬ КАК РАННЯЯ ФОРМА ЛЮБВИ
«Помни: только лишь день погаснет краткий,
Бесконечную ночь нам спать придется.
Дай же тысячу сто мне поцелуев,
Снова тысячу дай и снова сотню,
И до тысячи вновь и снова до ста»
Катулл
«…that most primitive form of love,
which is called greed»
Винникотт
Жадность в словаре Вебстера определяется как «чрезмерное желание приобретать или желать большего, чем нужно или заслуживаешь» (Webster's New World Dictionary, 2018). Это определение относится к процессу приобретения чего-то или желания обладания чем-то, сопровождающееся явным или скрываемым пренебрежением к чувствам других. Аналитики на удивление мало пишут о жадности. Ссылки, например, в ПЕП ВЕБ, на статьи о жадности можно в буквальном смысле слова пересчитать по пальцам. Мне кажется, это говорит о том, что жадность - явление настолько фундаментальное для человеческого опыта, что ее либо легко не заметить, либо о ней говорят, называя ее именем совсем другие феномены. Отчасти это связано с тем, насколько неуловимыми могут быть клинические проявления жадности. Жадность можно замаскировать, от нее можно защититься бесчисленным множеством способов, и ее легко спутать с другими переживаниями, такими как соперничество, ревность, зависть или агрессия.
Так, например, в клинической работе жадность можно увидеть у пациентов, которые чувствуют, что им не хватает нужных запасов для жизни, недостаток которых грозит им всевозможными ужасами. У них есть фантазия, что именно благодаря приобретению и накоплению этих запасов они будут защищены от опасности или грядущего ущерба.
Кроме того, жадность можно увидеть у тех пациентов, которые не могут насытиться терапевтом, будь то дополнительные интерпретации или телефонные звонки. В таком поведении жадность переживается как бесконечная потребность. Так же мы можем думать о жадности тех, кто демонстрирует невозможность переживать удовлетворение, быть довольным хоть чем-то в своей жизни и своей терапии.
Жадность психоаналитически традиционно была представлена языком оральности: пожирание, сосание, кусание. Это вызывает в воображении каннибальские фантазии о том, чтобы все забрать и все поглотить. В той мере, в какой импульсы жадности управляемы, они служат мощными мотивами поведения.
Согласно ранней теории психосексуального развития, рот младенца является первой частью тела, наделенной либидо из-за удовольствия, испытываемого при сосании. При нормальном эмоциональном развитии этот импульс направляется в социально приемлемое и полезное поведение, например замещение, сублимацию, формирование реакции. Если либидо лишено удовольствия, возникающее напряжение, тревога и разочарование компенсируются желанием получить больше и сохранить как можно больше для себя — что понималось как аномалия, которая, если ее не устранить на ранних стадиях роста, может сохраняться во взрослую жизнь. Одним из таких эмоциональных арестов считалась фиксация на оральном уровне, как у алкоголика, который заменяет одну бутылку другой (Abraham, 1927). Точно так же считалось, что получение через рот является способом, на котором основано стяжательство. Имущества ищут не из-за потребности, а из-за удовольствия, испытываемого в процессе захвата, владения и накопления — символическое поведение, заменяющее безопасность, помощь, любовь или власть.
«Жадное эго поглощает хороший объект, поэтому эго всегда нужно больше. Оно грабит собственные запасы пищи, вызывая чувство покинутости, утраты, гнева, вины, страх преследования», - пишет Р. Васка. В жадности эго никогда не бывает удовлетворено тем, что имеет. Оно обесценивает количество и качество того, чем уже владеет. А в качестве защиты жадность подпитывает одержимость собственностью и накоплением большего количества объекта. Идеализированные требования создают циклы ожиданий, направленных на себя и объект. Это вызывает внутреннее переживание бесконечного голода, неудовлетворенности и великой безнадежности. Результатом является эмоциональное голодание, вызванное само собой, даже когда человек окружен адекватной или достаточной степенью любви, успеха и знаний.
Итак, жадность, с его точки зрения — это безжалостный и неустойчивый внутренний опыт. Она порождает постоянное беспокойство и бесконечный голодный поиск большего. Ссылаясь на Шнайдера, Васка разъясняет, как инфантильное эго чувствует наличие неадекватного объекта и поэтому испытывает эмоциональное голодание. Это порождает состояние еще большей жадности и выстраивает преследующую фантазию жадного эго, отчаянно пытающегося питаться удерживающей хорошее, пустой, злой грудью.
Для жадного эго битва никогда не заканчивается и никогда не выигрывается. Всегда стремясь владеть идеальным объектом и питаться им, жадное эго никогда не находится в безопасности. Жадность лишает идеальный объект его достоинств, поэтому эго злится и мстит. Через проективную идентификацию эго сталкивается с тем, что хороший объект стал плохим, питательный оазис превратился в отравленный колодец. Это приводит жадное эго к круговороту жажды, поисков, потерь, преследований и дикой вины.…
Х. Каплан рассматривает жадность как аффект, а сильную жадность как хроническое состояние эго, затрагивающее всю личность, и вызванное задачей эго справиться с аффектом, когда чувство присутствует в чрезмерной степени. Он пишет о том, что аффекты можно анализировать как манифестное содержание различных инфантильных проявлений, включающих в себя желание, объектные отношения или нарциссизм.
«Психоаналитический взгляд на теорию аффектов сложен, - говорит Каплан, - поскольку определенные стремления строятся на первоначальных физических потребностях. Жадность — это стремление к приобретению, которое переживается субъективно, как если бы это была потребность, узаконивающая собственное стремление. Критиковать потребность труднее, чем желание. Когда жадность ощущается как желание, индивид регулирует ее посредством социализации, в то время как в более патологических формах она разыгрывается».
Когда в ходе развития добавляется супер-эго и, следовательно, ощущение правильного или неправильного, к жадности прибавляется тема несправедливости. Таким образом, жадность включает в себя протест против лишения без достаточной на то причины. И таким образом «я хочу» превращается в ощущение «я имею на это право».
Кроме этого присутствует так же ощущение нарциссической травмы и нарушения прав; мы можем обнаружить в жадности ворчливый тон, который, кажется, задает вопрос вселенной в целом: «Почему я? Чем я заслужил это лишение?»…
В более патологических формах жадность характеризуется высокой степенью беспокойства, ненасытной тягой. Интенсивность жадности неизменно приводит человека к хронической раздражительности, возбуждению и беспокойству. Когда жадность человека привязывается к фаллическому соперничеству и амбициям, человек проявляет решимость получить как можно больше из любых и всех доступных источников.
«Часто жадность может остановить развитие более продвинутых социально-регулирующих аффектов, таких как жалость, уважение и другие формы идентификации с объектом», - говорит А. Найкелли.
Наиболее цитируемым автором в современных работах о жадности оказывается М.Кляйн, и различные концепции жадности так или иначе отталкиваются от ее фундаментальных работ.
Кляйн рассматривает жадность как ненасытную тягу, превышающую потребности человека и, кроме того, превосходящую все то, что объект может или хочет дать. Ее цель — взять все хорошее, что можно извлечь из объекта. Более того, жадность предполагает стремление безжалостно тянуть и брать желаемое. При жадности, в отличие от зависти, гораздо меньше внимания уделяется объекту, а основное внимание уделяется имуществу и припасам.
М. Кляйн пишет: « Я предполагаю, что изменение баланса между либидо и агрессией порождает эмоцию, называемую «жадностью», которая носит в первую очередь оральный характер. Любое увеличение «жадности» усиливает чувство фрустрации и, в свою очередь, агрессивные импульсы. У тех детей, у которых силен врожденный агрессивный компонент, легко возбуждаются персекуторная тревога, фрустрация и «жадность», что способствует трудностям перенесения младенцем лишений и борьбы с тревогой. Соответственно, сила деструктивных импульсов в их взаимодействии с либидными импульсами будет обеспечивать конституциональную основу интенсивности «жадности». Однако если в одних случаях персекуторная тревога может усиливать «жадность», то в других (как я предположила в «Психоанализе детей») она может стать причиной самых ранних пищевых торможений».
Работы Независимых отличаются в своей концептуализации жадности, поскольку отличаются и в своей концептуализации агрессивности. Для миссис Кляйн деструктивность является врожденной и, следовательно, интрапсихической. Большинство Независимых рассматривают агрессию как необходимую для выживания часть самозащитной функции организма. И Винникотт, и Фэйрбэрн воспринимают патологическую агрессию как реактивную реакцию, которая может быть связана с действительным, предполагаемым или воображаемым воздействием окружающей среды.
Винникотт говорит, что «жадность — это слово с вполне определенным значением, соединяющее воедино психическое и физическое, любовь и ненависть, все, что приемлемо и что неприемлемо для эго».
«Я хотел бы выдвинуть предположение, - пишет он, - что жадность никогда не встречается у человека, даже у младенца, в неприкрытой форме, и что жадность, когда она проявляется как симптом, всегда есть вторичное явление, предполагающее тревогу. Жадность означает для меня нечто настолько примитивное, что она не могла бы проявиться в человеческом поведении, кроме как замаскированной и как часть симптомокомплекса».
Игра Лоуренса с шпателями (которую Винникотт описывает в работе «Наблюдение младенцев в обычной ситуации») раскрывает качество фантазий младенца. Это те самые тревоги, с которыми в своей основе имеет дело запрет на жадность, появлявшиеся во многих других описаниях случаев Винникотта. «Торможение, - говорит он, - означает скудость инстинктивного опыта, скудость развития внутреннего мира и вытекающее из этого относительное отсутствие нормального беспокойства о внутренних объектах и отношениях».
Винникотт рассматривает жадность как явление, тесно связанное с подавлением аппетита. «Если мы будем изучать жадность, - говорит он, - мы обнаружим лишения. Другими словами, если младенец жаден, у него есть некоторая степень депривации и некоторое принуждение к поиску исцеления этой депривации посредством окружающей среды». Тот факт, что мать сама готова удовлетворить жадность младенца, обеспечивает терапевтический успех в подавляющем большинстве случаев, когда можно наблюдать это принуждение.
Он приводит краткое описание случая мальчика, который превратился из заторможенного в жадного. Том, пятнадцати лет, ему грозит исключение из школы вследствие неудовлетворительного характера. Том резко изменился в тринадцать лет. Сейчас он: «Неопрятный и немытый»; учителя жалуются на разрушение мебели (вырезание дырок в стульях) и т.д. Том невнимателен в школе и не может сосредоточиться на уроках. Он находится в постоянном конфликте с разными учителями, и наказание на него не действует. Родители сообщают, что они обеспокоены тем фактом, что он устроил дома хаос, повредив ножом собственную комнату и мебель в ней, хотя он всегда любил эту комнату.
Здесь интересно то, что вместе с этим изменением характера у Тома произошел переход от сдерживания жадности к жадности. В ходе этих изменений он начал полнеть, а до этого всегда был худым, приобрел более чем здоровый аппетит и желание переедать. Ранее он никогда не интересовался едой, и никто никогда не мог подкупить его каким-нибудь лакомством.
Мать вспоминала трудности при кормлении грудью в три месяца, затем шесть месяцев затрудненного кормления с вторичными запорами. В девять месяцев ребенок весил всего девять фунтов; с этого времени он чувствовал себя довольно хорошо, но сохранил небольшую аппетит и маленькое тело.
Важность этого случая, заключается в том, что он показывает, как торможение аппетита хорошо служило мальчику в течение 10—12 лет в его защите от тревоги. Благодаря своим симптомам ему удалось стать (в своем внутреннем мире) более или менее привлекательным и общительным существом, поскольку он может обходиться почти без еды. Однако без веры в свою и чужую доброту он не может вести полноценную жизнь, по крайней мере, не может жить и оставаться в здравом уме.
Винникотт так же привлекает наше внимание к чрезвычайно раннему возрасту, в котором человек может попытаться решить проблему подозрительности, став подозрительным к еде. «Первые месяцы младенчества чрезвычайно трудны для понимания, но ясно, что в возрасте девяти и десяти месяцев этот механизм (то есть использование сомнения в еде для сокрытия сомнения в любви) может быть задействован в полной мере», - пишет он.
Саймон, 8 лет. Родителей беспокоило недостаточное физическое развитие сына, а также другие его симптомы: отсутствие аппетита, возбужденное нервное состояние, ночные кошмары и другие специфические особенности. Одну из особенностей Саймона лучше всего описать на примерах. Так, предположим, Вы сердитесь на Саймона и говорите ему: «сегодня ложись спать пораньше!», а он отвечает: «вот и хорошо, я устал» и уходит как бы довольный. Или Вы говорите: «Сегодня никаких шоколадок!», а он говорит: «Это хорошо, потому что сегодня меня тошнит с утра», и снова Вы не смогли донести до него мысль о наказании. Наиболее постоянным симптомом мальчика было отсутствие у него обычного желания есть. Можно сказать, что он никогда не был жадным. Не существует еды, которая ему действительно нравится, и нет ничего, что можно было бы дать ему в качестве угощения. Он ест шоколад, но забывает о нем и всегда предпочитает играть, а не есть. Мать утверждает, что Саймон был «абсолютно нормальным», пока его не отняли от груди в девять месяцев. (Конечно, мы знаем, что он не был абсолютно нормальным; например, была тревога, вызванная хрустящей бумагой.) Но когда грудь полностью отняли, он изменился и так и не оправился. «Таким образом, - пишет Винникотт, - состояние Саймона можно было бы назвать подавлением жадности, вторичным по отношению к травме отлучения от груди, которая была вторичной по отношению к ранней инфантильной тревоге психотической интенсивности и качества».
В случае Саймона еще раз можно увидеть большое значение сдерживания жадности, здесь восходящего к отлучению от груди; и как вначале отношение к еде есть отношение к человеку, к матери, так и в дальнейшем симптомы кормления варьируются в зависимости от отношения ребенка к разным людям.
Винникотт полагает, что жадность младенца – это изложение огромных инстинктивных требований, которые «младенец предъявляет к матери в самом начале, то есть в то время, когда младенец только начинает позволять матери отдельное существование, в первое принятие принципа реальности. Мать … может полностью преуспеть в том, чтобы не «подводить младенца», удовлетворяя потребности эго», до тех пор, пока у младенца не появится интроецированная мать, поддерживающая его эго, и он не станет достаточно взрослым для того, чтобы самому поддерживать эту интроекцию, несмотря на неудачи поддержки эго в реальном окружении.
«Первобытный любовный порыв — это не то же самое, что безжалостная жадность, - говорит Винникотт, - В процессе развития младенца первобытный любовный порыв и жадность разделяются приспособлением матери к его нуждам».
Харольд Борис, исследуя нарушения пищевого поведения, начинает с того, что разделяет жадность и аппетит: «Аппетит по своей природе удовлетворяем. Он идет за тем, чего хочет, и все же благодарен к тому, что получает.
Я думаю, что жадность предшествует аппетиту и может перерасти в аппетит, а может и не перерасти в него. Жадность хочет всего; ничего меньшего не получится». В разговорном языке прилагательное «жадный» имеет уничижительный оттенок; это часто гневно говорят о ком-то, кто не может быть доволен. «Я считаю жадность… состоянием, с которым каждый с радостью расстался бы, если бы смог выдержать боль», - пишет Борис. И это, с его точки зрения, боль потери, которую не может вынести человек, делающий выбор.
Он проводит различие между потенциальной жадностью и жадностью потенциированной. Первая свободна от разочарования. Она содержит фантазию «все-в-одном» и «все-в-один-момент». Это мечта за пределами алчности. Она вызывает волнение и блаженство. Это состояние, в котором младенец (впоследствии ребенок или взрослый) временно не обнаружил другого и не должен бороться с возможностью сопоставления между аппетитом и грудью. Это состояние длится до тех пор, пока младенец ничего не хочет от груди, после чего безмятежность сменяется разочарованием размером с весь мир. Это состояние так называемой «Золотой фантазии», описанной С. Смитом.
«… жадность — это неразвитое состояние ума, при котором человек желает и надеется иметь все и всегда. Представление о том, что это возможно, вызывает состояние сильного возбуждения и чистого блаженства», - пишет Борис и в этом смысле жадность – это часть надежды.
«Золотая» фантазия проста и знакома: это желание удовлетворить все свои потребности в отношениях, освященных совершенством. Две неизменные черты этой фантазии выделяют ее как в ее влиянии на жизнь пациента, так и в ее влиянии на анализ. Первая черта связана с позицией пациента в этой фантазии: позиция всегда пассивна, всегда связана с убеждением, что где-то в этом огромном, бескрайнем пространстве, называемом миром, есть человек, способный полностью удовлетворить мои потребности. Желание состоит в том, чтобы о человеке заботились настолько полно, чтобы от пациента не требовалось ничего, кроме его способности пассивно воспринимать. Вторая черта, вытекающая из первой, — это субъективное переживание пациентом того, что эта фантазия затрагивает его глубочайшие глубины, центральные вопросы его жизни и что действительно само выживание может зависеть от ее сохранения. Сохранять фантазию нетронутой, бесконечно искать ее воплощение в любых отношениях становится смыслом существования пациента. Отказаться от фантазии — значит отказаться от всего, потерять первичный источник комфорта (идеализированный объект), даже чувство смысла. Как будто фантазия дает самоопределение: без нее нет существования, и мир становится местом без надежды. Чувствуется черно-белое, все-или-ничего этой формулы, как будто по ту сторону идеала таится какой-то ужас. Если человек не может сохранить то, что хорошо, то остается только с тем, что плохо; опасность в том, что идеальный объект может стать объектом преследования.
В тот момент, когда жадность становится потенциированной, человек тяжело осознает необходимость выбора, и одновременно невозможность получить все. Это осознание
- либо побуждает к выбору, при котором одновременно ощущаешь и чувство глубокой утраты, и удовлетворение аппетита;
- либо стимулирует отказ терпеть выбор — и происходит превращение аппетита обратно в жадность;
- либо вызывает переживание огромного разочарования.
Борис не говорит о трансформации жадности в аппетит как об одномоментном явлении, на самом деле это происходит снова и снова: жадность перерастает в аппетит; аппетит переходит в жадность. Большая часть определения выбора, я думаю, интрапсихическая. Аппетит делает манифестной первую встречу младенца с действительностью и, впервые делает действительный опыт действующим лицом в этом процессе. Качество переживаемого аппетита теперь будет играть роль в том, модулируется ли чувство утраты компенсационным и утешительным опытом или нет.
К нам, как правило, не приходят люди, получавшие в детстве достаточно любви. Но большей частью пациент постепенно начинает насыщаться в терапии, получая любовь и поддержку аналитика, вызывая у него ассоциации с иссохшим растением, которое теперь, получая достаточный полив и солнечный свет, постепенно расправляет листья. А тут я хотела бы остановиться на двух примерах, когда пациент не мог вначале получить ничего от анализа. Жадность, как мы помним, так боялась потери при выборе, потери, которая переживалась как катастрофа, которую жадность предотвратила и, следовательно, анализ должен быть направлен не столько на то, что произошло, сколько на то, чего не произошло – не произошло превращение жадности в аппетит. Задача анализа, конечно же, теперь состоит в том, чтобы на этот раз дать возможность индивидууму развить аппетит.
Когда разовьется аппетит, пациент также разовьет интерес к пище для размышлений. С этой целью используются чьи-то интерпретации. Но когда преобладает жадность, каждая интерпретация, скорее всего, будет использоваться для умножения возможностей и уклонения от выбора. Позвольте мне теперь заглянуть в мою комнату для консультаций и привести два примера.
Литература
Abraham K. Selected papers on psychoanalysis. London: Hogarth, 1927.
Boris H. The "Other" Breast—Greed, Envy, Spite and Revenge [1986]
Kaplan H. Greed: A Psychoanalytic Perspective [1991]
Klein M. Some Theoretical Conclusions Regarding the Emotional Life of the Infant [1952]
Nikelly А. The Pathogenesis Of Greed: Causes And Consequences [2006]
Smith S. The Golden Fantasy: A Regressive Reaction to Separation Anxiety [1977].
Waska R. The Impossible Dream And The Endless Nightmare: Clinical Manifestations Of Greed [2004]
Waska R. Craving, longing, denial, and the dangers of change: clinical manifestations of greed [2002]
Winnicott D. Appetite and emotional disorder [1936]
Winnicott D. The Antisocial Tendency [1956]
Winnicott D. The Observation of Infants in a Set Situation [1941]